В 2025 году наша страна отмечает священный праздник для всех россиян, да и для многих других народов, когда-то объединенных единым государством – Союз Советских Социалистических Республик (СССР) – День ПОБЕДЫ советского народа в Великой Отечественной войне. Наша семья рада, что даже по прошествии 80-ти лет после окончания войны, живы воины и офицеры, сражавшиеся на этой войне, труженики тыла, обеспечивающие эту победу своими трудовыми подвигами, дети, которые родились в предвоенные и военные годы. Мы пожелаем всем им и их потомкам: здоровья, благополучия и мира. Мира настоящего, о котором после этой Великой Победы мечтали в каждой семье, складывали стихи и пели песни.
Нам посчастливилось родится в московской семье служащих (Колесниковых Александра-Олега и Тамары), более чем через двадцать лет после окончания этой страшной для всего человечества войны, но с детства я (Колесников Алексей Александрович) и мои близкие были окружены людьми, жившими в те тяжелые военные годы. Хочу рассказать несколько историй, связанных с нашими родственниками, услышанными нами от них самих и от других наших родных и близких людей.
Наши родители: Колесниковы Александр (Олег) Александрович и Тамара Александровна родились в Москве в 1935 году. Оба встретили начало войны в шестилетнем возрасте.
Наша мама за год до войны потеряла мать (нашу бабушку) Потапову Клавдию Ивановну, работающей врачом-терапевтом в одной из московских больниц, поэтому она только с нашим дедушкой Потаповым Александром Павловичем (инженером) уехали после начала войны в эвакуацию в город Омск. В Омске мама пошла в первый класс школы, а по окончании 2-го класса летом 1944 года с отцом вернулась в Москву. Во время эвакуации наш дедушка Потапов Александр Павлович работал на авиационном заводе инженером. Работа в тылу была безвыходных и в непростых условиях. Но все, что выпускалось для фронта на авиационном заводе приближало к победе и придавало сил всем, кто трудился в тылу.
Наш дедушка, Колесников Александр Федорович (отец папы) работал на оборонном заводе главным инженером, а бабушка Колесникова Любовь Васильевна помогала ему на протяжении всего военного времени. Завод эвакуации не подлежал, поэтому семья нашего отца осталась жить в Москве. Семья папы с середины 30-х годов двадцатого века до 1949 года жила в районе Сущевского вала и Марьиной Рощи. В этом же районе наш папа проучился в школе с первого по седьмой класс.
С лета 1941 года войска фашисткой Германии бомбили советские города и села, в том числе и Москву. Во время бомбовых ударов, «бомбежек», как говорили москвичи, жители прятались в бомбоубежищах, в том числе и московском метрополитене, но рядом с домом нашего отца такие убежища находились в подвале одного из учреждений и в подвале школы.
Для более сильного повреждения зданий Москвы и образования пожаров фашистские летчики обстреливали Москву зажигательными бомбами. Москва в предвоенные годы быстро росла. В ней строились новые заводы и фабрики, школы и учреждения, жилые дома, но в большинстве домов крыши и межэтажные перекрытия строили деревянными. Поэтому в школе, где учился папа, под руководством школьной пионерской организации был создан отряд школьников для помощи пожарным службам в тушении домов. Членом этого отряда был и наш папа. Днем после школьных занятий ребята натаскивали на чердаки близлежащих домов песок, а во время «воздушной тревоги», так называлось предупреждение о бомбовых атаках, по очереди дежурили на крышах этих домов. Дежурства были по два-три человека. Ребята любили дежурить на крышах во время «бомбежек», ведь дежурным не нужно было бежать в бомбоубежище, и они чувствовали свое участие в борьбе с врагом. Каждый из школьников хотел отличиться при тушении пожара.
По рассказам нашего папы во время дежурства они с друзьями мечтали, чтобы бомба попала именно в их смену и их дом, чтобы они, как взрослые смогли что-то сделать для приближения Победы.
На мой прямой вопрос сколько раз ему удалось тушить пожар в домах, глаза моего папы загорелись огнем, и он сказал: «Один раз, сынок, но я думал, в тот момент, что моя жизнь вот-вот закончится. В тот вечер, во время «бомбежки», я был старшим смены. И вот моя долгожданная мечта осуществилась, зажигательная бомба пробила крышу именно нашего дома и стала прожигать потолок верхнего этажа. Мы с друзьями стояли несколько мгновений в оцепенении. Потом я схватил щипцы и побежал к искрящейся во все стороны бомбе. Я зажал бомбу щипцами и чуть-чуть ее приподнял. «Сейчас пупок развяжется» - подумал я. Громко закричал ребятам, чтобы они кидали песок на бомбу, но они продолжали стоять не шевелясь. С огромным усилием я донес бомбу до ящика с песком и тут друзья очнулись, взяли лопаты и засыпали бомбу песком из другого ящика.
Сынок, вес щипцов, которыми я нес бомбу, был около семи килограммов, да и бомба весила примерно столько же, точно не знаю. На вытянутых, хоть и прижатых руках к животу, еле-еле дотащил до ящика с песком. Искры от бомбы сверкали, как от салюта (фейерверка), прожигали мою ватную куртку и рукавицы. На следующий день в школе на «линейке» (построение школьников перед началом учебных занятий) нам вынесли благодарность за помощь в тушении пожара».
Вот такую историю про московские «бомбежки» мне с гордостью рассказал наш папа.
А еще в папиных воспоминаниях о военных годах отложились моменты, когда с 1942 года один раз в месяц мой дедушка Колесников Александр Федорович приносил домой офицерский паек, в который входило две буханки хлеба, несколько килограммов крупы, консервы, соль, спички, пол килограмма сахара и пачка маргарина. Папа с такой восторженностью рассказывал, как в день выдачи пайка они с его младшей сестрой Наташей и нашей бабушкой (Колесниковой Любовью Васильевной) наслаждаясь кушали по большому куску хлеба с маргарином, представляя себе хлеб со сливочным маслом, что я сам несколько месяцев после этой истории вместо сливочного масла стал кушать бутерброды только с маргарином.
Наша бабушка, Колесникова Александра Федоровна (родная сестра дедушки и папина тетя) перед войной переехала в город на Неве и до конца жизни жила в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). В первые дни войны ее мужа призвали на фронт и через несколько дней он погиб, защищая Ленинград от врагов.
Получив «похоронку», так называли письма из военных частей о смерти военных, бабуля дала себе наказ, что она должна выжить, вырастить дочку (Яковлеву (Колесникову) Марину Николаевну), родившуюся накануне самой войны в январе 1941 года. И она с дочкой выжили. Моей тетушке Яковлевой Марине Николаевне – 84 года, недавно ей восстановили статус жителя блокадного Ленинграда. А жить и работать во время войны в Ленинграде было очень трудно. Самое страшное – это был голод, особенно зимой 1941–1942 года, когда по военным «хлебным» карточкам уменьшили нормы продажи хлеба. В обычные дни норма хлеба на одного человека составляла на работающих – 250 граммов, на иждивенцев 125 граммов, но с сентября 1941 по апрель 1942 г. нормы уменьшили в двое – 125 и 62,5 граммов на человека соответственно. В блокадном Ленинграде жители выживали, благодаря силе характера и веры в Победу. На заводе, где работала бабушка директор, нарушая закон, запрещающий использование имущества предприятия в личных целях, чтобы поддержать работников распорядился 1 раз в месяц выдавать каждому работнику 1 литр растительного масла, которое, возможно, частично и спасло их от голода. Растительное масло на заводе использовалось в качестве охлаждающей жидкости для станков. В 1951 году за это решение директор был разжалован до рядового, лишен всех званий и наград.
Хочу рассказать, как несколько раз Господь бог (бабуля (Колесникова Александра Федоровна) называла материнским сердцем) спасал от смерти бабушку и нашу тетушку в блокадном Ленинграде. По решению Комитета обороны Ленинграда все дети от 2-х до 14-лет подлежали эвакуации из города, подростки от 14 до 17 лет работали на заводах и в госпиталях, дети младше 2-х лет эвакуации не подлежали, поэтому до марта 1943 года наша бабушка с малолетней дочерью жили в блокадном Ленинграде.
Бабуля работала на военном заводе по 12 часов в день. По регламенту предприятия женщинам, имеющим малолетних детей, возраста до 1-го года, два раза за смену разрешался часовой перерыв на грудное вскармливание детей. В один из дней бабушка, вернувшись после такого перерыва на работу, почувствовала тревогу на сердце и отпросилась на еще один внеочередной перерыв. Придя домой, она собрала дочь и забрала ее в детскую комнату при заводе. Да, на заводе для детей, от 1-го до 2-х лет бала создана детская комната с воспитателем для детей, которые не ходили в детские ясли. По окончании рабочего дня, бабуля с дочкой на последнем трамвае вернулись домой, но дом оказался разрушенным полностью от попавшей в него бомбы. Два с лишним часа бабуля с дочкой добирались назад пешком до завода. На следующий день им временно выделили маленькую комнату в заводском общежитии для иногородних, в котором они прожили до 1971 года.
Весной 1942 бабуля устроила дочку в заводские детские ясли. А летом 1942 года Заведующая учреждением предложила перевести дочку во вновь образованную группу. Дом, в котором находились ясли, был двухэтажным. В новую группу отобрали 17 более крепких деток, которые могли подняться или доползти на второй этаж, детей послабее оставили в группе на первом этаже. Бабуля попросила не переводить ее дочку в новую группу, так как дочка уже привыкла к нянечке, работающей в группе на первом этаже. Так дочка продолжила посещать детские ясли в прежней группе. В один из дней лета 1942 во время «бомбежки» второй этаж детских яслей был разрушен, семнадцать детей и две няни погибли, а в группе на первом этаже все дети и няни выжили.
В марте 1943 года бабуля отправила дочку в принудительную эвакуацию из города. Эвакуация проходила по льду Ладожского озера на грузовых автомобилях для перевозки людей по «дороге Жизни» (так назывался путь, связывающий блокадный Ленинград с остальной страной). Бабуля со слезами провожала дочь, предварительно зашив в карманы дочки записки с ее метриками и адресом заводского общежития, в котором она жила. И какой радостью было письмо, полученное ей из детского дома в Карелии. Бабуле написала воспитательница детского дома, что дочка жива, растет и не болеет. А летом 1944 года завод предоставил бабуле 15-и дневный отпуск и проездные документы, чтобы она смогла забрать дочку из детского дома домой. Эта была тоже интересная история – путь из Ленинграда и обратно длился все 15-дней с шестнадцатью пересадок до Карельского детского дома и девятью пересадками обратно до Ленинграда.
8-го Мая 1945 года все жители Москвы чувствовали приближение Победы в войне, окончательной победы над фашисткой Германией. Москвичи с 1943 года уже привыкли к салютам, по случаю освобождения советских городов от захватчиков, но этот день, по славам нашей мамы (Колесниковой Тамары Александровна) был особенным. Все ждали объявления подписания безоговорочной капитуляции. Мама жила в 1945 году в Москве на Онежской улице недалеко от трикотажной фабрики имени Петра Алексеева (ныне Головинский район). После обеда в 15-часов дня мама с дедушкой (Потаповым Александром Павловичем) решили поехать в центр Москвы, чтобы с другими жителями города вместе услышать радостную долгожданную весть об окончании войны. Станции метро в центре города работали только на вход пассажиров, поэтому им пришлось идти пешком от станции «Динамо», но дойти до самого центра маме не удалось из-за большого числа людей на улицах Москвы в центре города. Мама с дедушкой дошли только до Садового кольца в районе станции метро Маяковская. Объявление о Победе прозвучало уже за полночь, 9-го Мая. Люди вокруг мамы громко кричали, радуясь, наступившей Победе. Восторг этого события мама сравнивала только с радостью по случаю рождения ее первой дочери (нашей старшей сестры) в 1960 году.
Вот такую историю про День Победы 9-го Мая 1945 с восторгом рассказала наша мама.
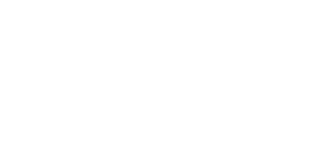
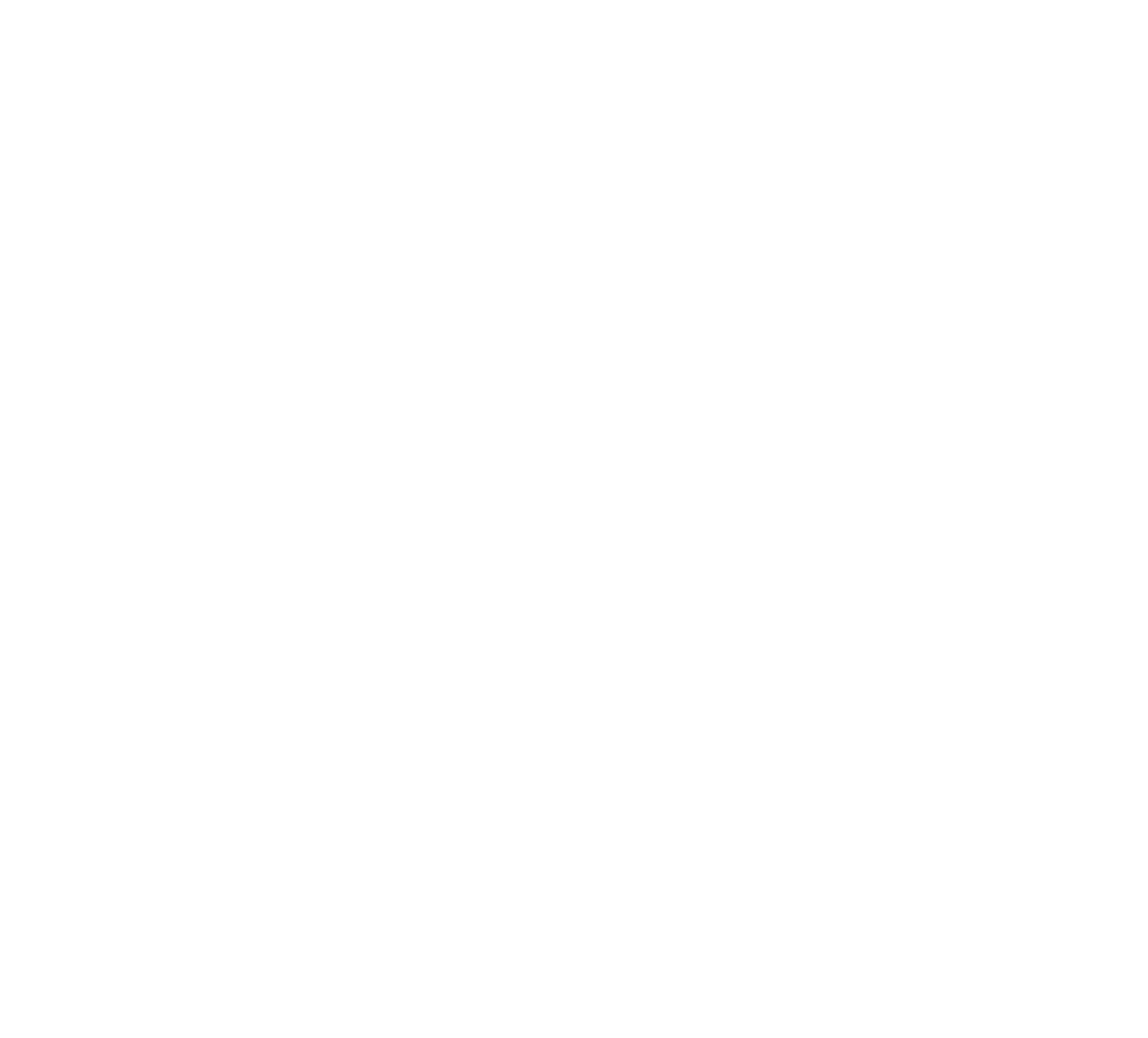

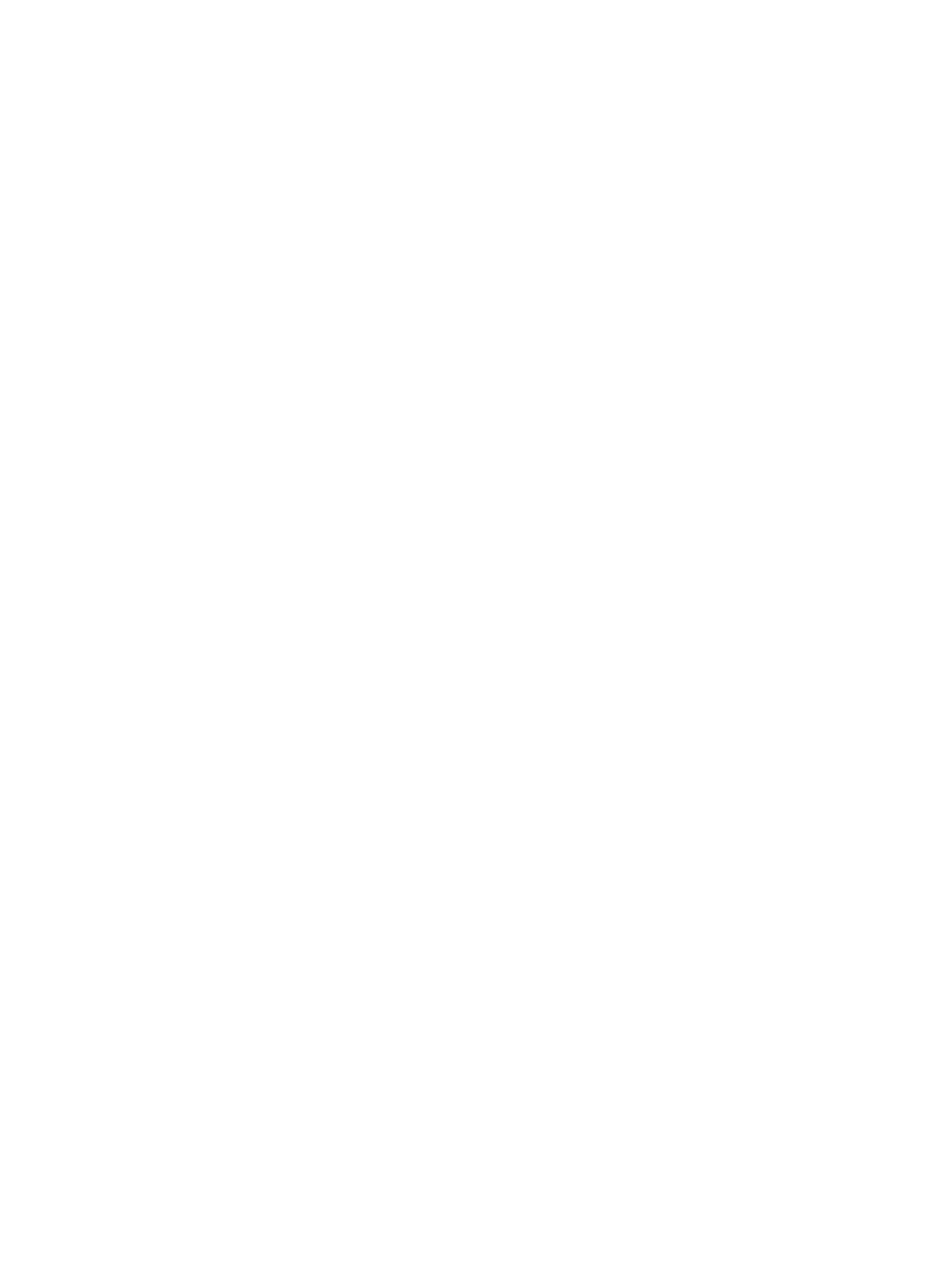
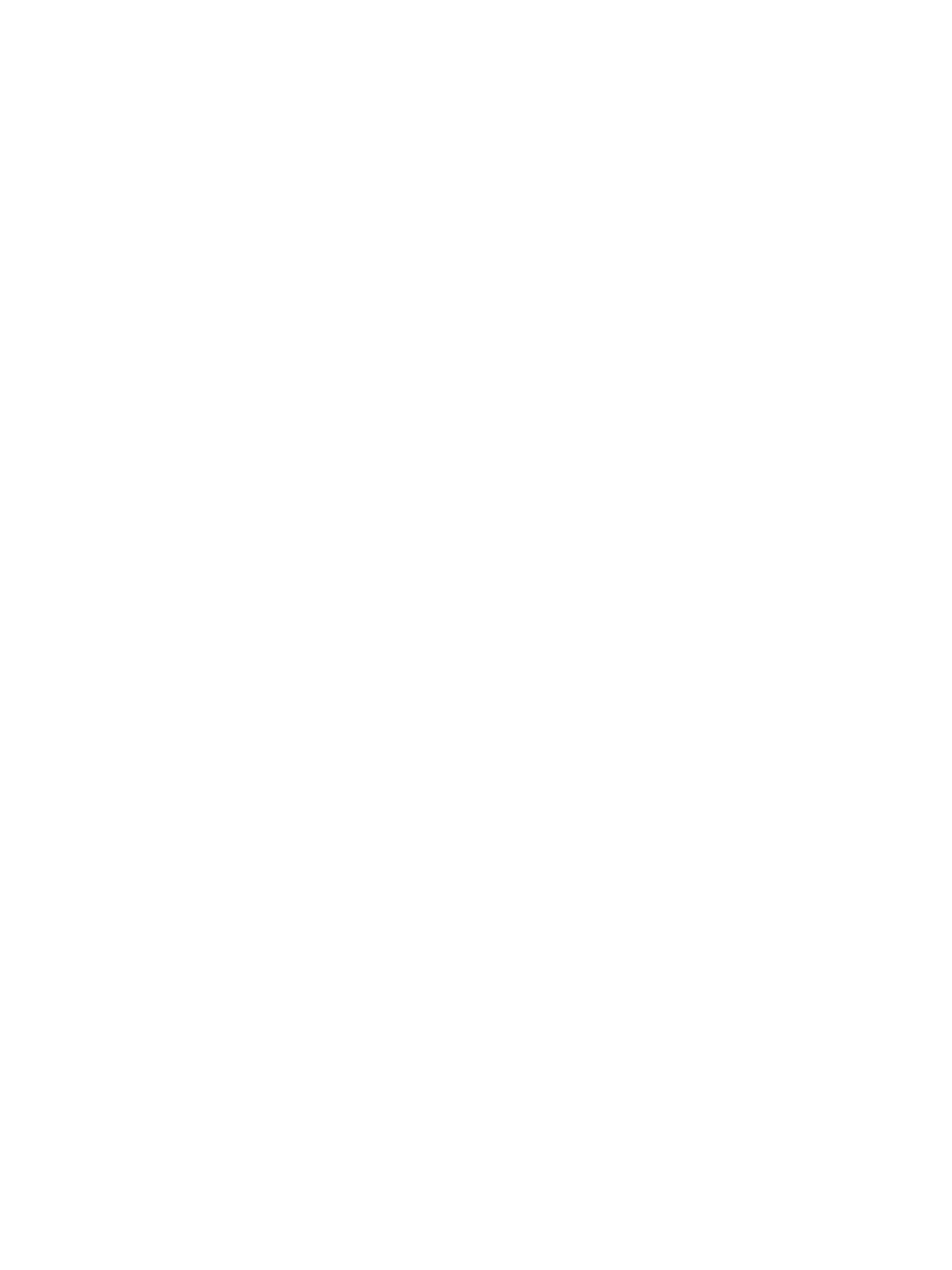
Все материалы являются объектами авторского права и принадлежат Л.А. Колесниковой. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
